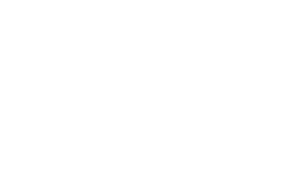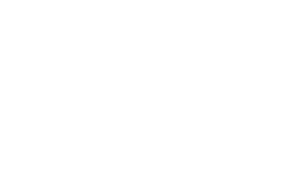А.ШНИТКЕ. В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ
А. Караманов — молодой композитор, но писать о нем трудно. За несколько лет он в своем творчестве вычертил такую «кривую», что нелегко разобраться в том, где он прав, а где ошибается. Это не тот случай, когда по недостатку опыта и профессионализма композитор не может найти правильного пути. Караманов прекрасно отдает себе отчет в том, что делает. У него большой, бесспорный талант. Даже в заблуждениях своих он искренен и привлекателен.
То, что Караманов пишет сейчас, как будто несовместимо с тем, чем он начал. Человек, наделенный впечатлительной и нервной психикой, необычайно острым слухом, великолепной музыкальной памятью, приехал из небольшого южного города в Москву. Здесь на него нахлынула масса разнообразнейших музыкальных впечатлений. Несколько лет были заполнены опытами и экспериментами, часто рискованными. Но бессознательное цветение таланта, еще не дисциплинированного логикой, поражало щедростью мелодических, гармонических и тембровых находок. В работах консерваторских лет проявилась особая склонность Караманова к изобразительной характерности. Показательна в этом отношении оркестровая сюита (1956 г.), отдельные части которой по первоначальному замыслу имели конкретно-программные, хотя и довольно неожиданные названия.
Первая часть — «Утро» — рисует пробуждение большого города. В медленном вступлении с первых же тактов обнаруживается оригинальная и смелая тембровая логика. Произведение открывается гибкой, пластичной мелодией скрипок (она двенадцатизвучна, но вместе с тем естественна и тональна).
Постепенно включаются другие голоса, каждый со своей самостоятельной линией, часто импровизационной. Здесь нет точно повторяемых мотивов, постоянного метра, все зыбко и неустойчиво. Идет длительное «нащупывание» основного размера. Слушателя как бы захватывает стихийный и мощный поток жизни большого города, на первый взгляд неорганизованный, но гипнотизирующий своим внутренним ритмом.
Вторая часть — «Грустная вечерняя песенка» — привлекательна очаровательной наивностью мелодии, рождающей ассоциации с прокофьевской «детской» музыкой.
Средний раздел — «Страшный сон»: какое-то мультипликационное «чудовище», которое смешно и беспомощно пытается напугать. Затем все успокаивается, еще мягче звучит убаюкивающая мелодия (порученная на этот раз саксофону сопрано).
Третья часть — «Очень веселая утренняя песенка» — напоминает блестящие «цирковые» галопы и польки Шостаковича. Здесь и иронически-традиционное вступление, и бойкий кларнет, и трескучее tutti — «парад всех участников».
Но все это не так безобидно, как кажется поначалу; средний раздел пугает каким-то тупым и автоматическим напором. Саркастическая деталь — имитация на мнимую тему, состоящую из одной назойливо вдалбливаемой терции. Словно облако набежало на ясное небо; это предвещает «Пасмурный день» — следующую часть сюиты. Ее пронизывает неумолимая остинатная ритмоформула, на которую наложены сменяющие друг друга «кадры»: гнетущие, словно низкие темные тучи, аккорды тромбонов и фаготов, унылой «тенью» ползущие горькие интонации английского рожка, ветром завывающие пассажи засурдиненных скрипок и саксофона, беспокойные «перезвоны» флейт и колокольчиков.
Финал — «Прогулка на мотоцикле» — врывается в цикл зазывным, упрямо синкопирующим сигналом валторн. С неподдельным, прямо-таки гайдновским простодушием даны натуралистические детали: вот мотоцикл заводится, вот он понесся, сначала рывками, затем ровно.
В музыке передано даже переключение скорости (доминантовый предыкт к ре мажору неожиданно «въезжает» на полтона выше, в Es - dur ). Блестящий пример музыкального остроумия — вторая тема («мотоциклист напевает, но за шумом мотора сам себя не слышит и оттого фальшивит»).
Удивительно, что это произведение до сих пор не нашло доступа к слушателям. Уже четыре года его запись пылится в фонотеке Дома звукозаписи, ни разу не прозвучав в эфире. Конечно, сюита не безгрешна: в ней отсутствует единый композиционный стержень; можно упрекнуть автора в недостатке собственного отношения к беспорядочно изображаемым событиям. Но вместе с тем ее музыка привлекает острой характерностью образов, яркостью неожиданных тембровых сочетаний, свежестью музыкальных тем.
Близки сюите по безотчетно радостному восприятию жизни и последующие сочинения Караманова — Симфониетта (1957) и Фортепианный концерт (1958).
Симфониетта — стройное, гармоничное по форме сочинение, хотя автор и «рискнул» поставить рядом две медленные части (вторую и третью). Манера письма — лаконичная и афористическая, приемы развития неожиданны. Уже в первой части в сжатом виде дан весь «круг» развития музыки — от изящной скерцозной первой темы через лирику побочной партии и разработку — к кульминации. Здесь хрупкая застенчивая вторая тема неожиданно приобретает мучительно искаженный облик, но к концу части снова берут верх настроения безмятежной пасторальности.
Andante начинается экспрессивным, несколько «пряным» по гармонизации «хором» струнных.
Развитие этой темы приводит к экспрессионистски напряженной кульминации с «хриплыми» возгласами валторн.
После этого уже невозможно возвращение к идиллическому благополучию начала — краткая, «дотлевающая» реприза непосредственно вводит в третью часть, где страшное еще более обнажилось: «скрипучие шаги» контрабасов, нервно-изломленные фразы струнных, низкая, ревущая медь — все создает картину исступленного шествия зла.
В финале вновь восстанавливается буйная радость жизни, доходящая в конце Симфониетты до экстатического вихря. Особенно свежа обаятельная первая тема финала, необычайно импульсивная благодаря несимметричному размеру:
Наиболее сильная сторона Симфониетты — ослепительно яркая инструментовка. Мощное дыхание оркестра заставляет вспомнить роскошные партитуры Р. Штрауса.
Менее удачен одночастный Фортепианный концерт. К этому времени Караманов начал искать более простые средства, но еще сильны были соблазны пышного гармонически-тембрового оформления партитуры. Эта неустойчивость определила музыкальный язык концерта. Наряду с яркими жизненными эпизодами (главная партия, каденция, мощная кода), встречаются места удивительно бедные и банальные. С недоумением воспринимается откровенно салонная побочная тема, порученная солирующей скрипке, что усиливает присущую ей лирическую размягченность.
Следующее за ней скерцо тоже не отмечено особой изобретательностью. Конечно, быстрый темп, обилие пассажей создают ощущение внешней динамичности, но тематически скерцо бледно, и поэтому вся эта «динамичность» оказывается беспредметной.
Есть в сочинении и несомненные достоинства. Оригинально по мысли начало концерта 1).
Караманову чуждо инертное эпигонское отношение к классическим образцам; его концерт начинается своеобразным «заигрыванием» солиста с оркестром, который вначале отзывается будто нехотя, но затем вступает в предлагаемое ему увлекательное соревнование.
Концерт представляет собой сонатное Allegro , «вобравшее» в себя скерцо (на месте разработки) и медленную часть (каденция). Мрачная каденция — кульминация произведения, в целом радостного и праздничного. Такой прием развития образов, не предвещающих поначалу ничего страшного, использован во всех трех разобранных нами произведениях. Здесь «страшное» воспринимается как одна из условных масок, которые поочередно надевает в общем очень жизнерадостный и по-детски наивный герой музыки Караманова. В этих произведениях нет резких конфликтов и драматизма; это проявления «играющего» таланта, едва успевающего отразить в музыке нескончаемый поток ярких впечатлений, а уж сделать обобщения ему некогда (в консерваторские годы Караманов писал очень много и очень быстро — достаточно сказать, что сюита создана в течение одной недели).
Своеобразная непритязательность и искренность такого метода вызывают симпатию, но таят в себе опасность творческого объективизма, при котором автору оказывается глубоко безразличным, какие темы и жизненные явления получат отражение в его сочинениях. Невольно напрашивается аналогия с распространенным в современном западном музыкальном искусстве типом художника-комедианта, хладнокровно меняющего условные роли-маски.
Все как будто было позволено, когда создавалась оркестровая музыка: и сложнейшие гармонии, и капризные ритмы, и многослойная фактура. Но когда Караманов начал писать для хора a cappella , ему пришлось пересмотреть свой творческий метод. Строгие нормы голосоведения, продиктованные ограниченными, казалось бы, формальными возможностями хора, стесняли; вместе с тем открывались новые области выразительности. Талантливый музыкант может почти интуитивно постичь основы гармонии, полифонии, оркестровки, но для овладения логикой развития музыкальных образов (далеко не совпадающей с «анализом музыкальных форм») необходима большая работа интеллекта. И в процессе этой работы выясняется, что, казалось бы, неуютные и тесные законы музыкальной формы имеют смысловое, выразительное обоснование.
Караманов — очень последовательный музыкант. Убедившись в отсутствии достаточной творческой дисциплины, он как бы начал сначала. Этим можно объяснить возвращение к основам функциональной гармонии в последних его работах — балете «Сорок первый» (по Б. Лавреневу) и хоровых циклах «Времена года» и «К славянам».
Так как эти сочинения еще не исполнялись в реальном звучании, было бы рискованно высказать о них окончательное суждение. Хочется лишь показать на примере хорового цикла «К славянам», какие задачи ставит сейчас перед собой А. Караманов. «Вериги» традиционной гармонии не помешали большому своеобразию цикла. Наиболее интересны здесь приемы хорового письма, особенно в заключительном номере — «Гус на костре» (на стихи Тютчева). Правда, мелодия вызывающе «благонамеренна», но зато она наложена на великолепный фон: нервно пульсирующий остинатный ритм, подобно языкам разгорающегося пламени, постепенно захватывает весь хор.
Свежее впечатление оставляет хор «Что ты поникла, зеленая ивушка» (на стихи Плещеева) — это единственный номер цикла, где скупость средств не кажется тенденциозной. Простая и незамысловатая хоровая фактура как нельзя лучше соответствует содержанию.
И все же в сочинении слишком назойливо подчеркнута архаичность музыкального языка. Возникает впечатление, что автор хочет возродить в своей музыке эмоциональный строй доглинкинского времени (своего рода «неоклассицизм»). Остается только удивляться, как индивидуальность композитора все-таки сильна и неистребима. Хотелось бы надеяться, что этот неожиданный крен из «безрассудной юности» в ложную зрелость ультраакадемизма выровняется. Вновь вернется к Караманову его бурная фантазия, и тогда окажется, что сегодняшнее его самообуздание было полезным. Будем ждать...
«Советская музыка», 1961 № 9
1) За последнее время в жанре фортепианного концерта установились некие «традиции», штампованные приемы: штамп № 1 — «романтически-приподнятый». Солист, словно разъяренный, обрушивается тяжелым каскадом «патетических» октав и аккордов на оркестр, вынуждая его начать изложение сосредоточенно-серьезной главной партии. Штамп № 2 — «элегически-академический» . Над волнующимся морем фортепианных фигурации парит «широкая, благородно взволнованная» тема струнных. Штамп № 3 — «объективная музыка». Солист с мнимым равнодушием разучивает «этюд Черни», флейта кокетливо чирикает лженаивную пьеску.
|