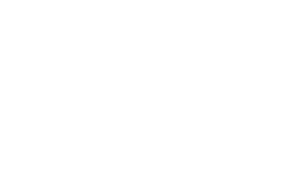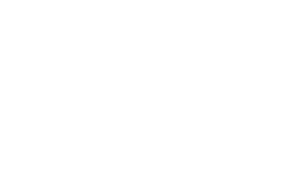МУЗЫКА — ПРОВОДНИК ЗВУЧАЩЕГО МИРА
(c А.Карамановым беседует корреспондент М.Рахманова)
22 января 1979 года в Москве, в Большом зале консерватории прозвучала драматория «Владимир Ильич Ленин» Алемдара Караманова на стихи Маяковского (исполнители — Госоркестр кинематографии и Московский хор под управлением К. Кримца). «Прекрасная музыка, неразрывно спаянная со словами Маяковского в образной выразительности, чутко найденном равновесии эпического охвата событий и личности мирового масштаба с тем, что называется лирической исповедью души», — писала «Комсомольская правда» в рецензии на премьеру сочинения, год создания которого — 1957. Так было положено начало возвращению на большую концертную эстраду творчества одного из самобытнейших композиторов среднего поколения. Возвращению, которого долго добивалась музыкальная общественность. (Напомним, в частности, что на страницах только нашего журнала по меньшей мере трижды шла речь о названном сочинении; напечатали мы тогда же и фрагмент из Драматории. Увы., голоса музыкантов в то время остались неуслышанными...)
В декабре 1982 года в Колонном зале яркий успех сопутствовал исполнению Большим симфоническим оркестром Гостелерадио СССР под управлением В. Федосеева одной из частей «Поэмы Победы» — «Возрожденный из пепла». Еще через год в Большом зале Московской консерватории тот же коллектив сыграл следующую часть «Поэмы» — «Великую жертву». 9 мая, в день 40-летия Победы, симфоническая музыка А. Караманова также звучала по радио и телевидению...
Недавно композитор перешагнул порог пятидесятилетия. Размышлениями в связи с этой датой и началась беседа корреспондента с композитором.
Корр.: Естественно, беседуя с композитором в год его пятидесятилетия, задать вопрос о достижениях и планах. Я же хочу в первую очередь спросить вас, Алемдар Сабитович, о другом — о реальном объеме вашего творчества. По-моему, это будет правильно: ваша музыка стала сколько-нибудь регулярно — хотя и не так часто, как хотелось бы, — исполняться в Москве, Симферополе, Киеве лишь в последние годы. Уже услышанное нами — количественно, вроде бы, немало, однако, по-видимому, немного в сравнении с лежащим в вашем письменном столе. Кроме того, если судьба художника складывается обычно, то публика имеет какое-то общее представление о его развитии, о движении его творческой мысли. Если же художник, подобно вам, исчезает из поля зрения слушателей чуть ли не на полтора десятка лет, то все обстоит иначе: возвращение к аудитории — вещь необыкновенно трудная. Ваша музыка вернулась — это само по себе отрадно. Более того, судя по отношению к ней широкой публики и музыкантов, она вернулась вовремя. И все же: сыгранные в Москве симфонические произведения — лишь части некоего целого. Каково оно? Ведь симфонизм — главное для вас.
А. К.: Да, это верно. Я очень люблю оркестр, без него просто нельзя дышать. Симфоническую музыку я писал с самых ранних консерваторских лет, и теперь у меня двадцать симфоний. Шесть из них составляют цикл «Поэма Победы», самое крупное мое произведение. Замысел его складывался в 1974–1976 годах, над партитурами систематическая работа шла по 1981-й. В ходе этой работы прояснялась единая драматургическая идея цикла, отбрасывались лишние куски уже написанного.
Смысл «Поэмы Победы» — духовное восхождение, борьба и преодоление. Путь, который проходит один человек и весь народ. Первая и шестая части — вступление и эпилог («Путями свершений» и «Возрожденный из пепла»). Третья часть — «Великая жертва» — драматическая кульминация целого, а пятая, «Возмездие», где господствуют злая стихия, хаос разрушения, — кульминация трагическая. Небольшая четвертая, «Всего превыше», по моему замыслу должна воплотить магическое великолепие красоты.
Части «Поэмы Победы» — это то, с чем я вышел к столичной, всесоюзной публике после действительно долголетнего отсутствия, и я очень благодарен дирижерам Владимиру Федосееву и Федору Глущенко — они проделали огромную работу над сложнейшими партитурами «Великой жертвы», «Победе рожденной», «Возрожденного из пепла».
— Общая продолжительность «Поэмы Победы» — более двух с половиной часов. Помнится, несколько лет назад вы считали возможным и даже необходимым одно- или двухвечернее исполнение цикла. Изменилось ли это ощущение теперь, после того как сыграны три его части?
— Да, изменилось: я думаю, что целостное восприятие «Поэмы Победы» станет возможным лишь когда она будет записана на пластинки. То есть я уверен, что слушатель может охватить ее целиком, но для дирижера и оркестра — это слишком изнурительная работа.
— Двадцать минус шесть — остается еще четырнадцать симфоний. Все ли они симфонии в точном смысле — не поэмы либо особые формы? И какие вехи можно сегодня представить в этом море музыки — только представить, ибо, если не ошибаюсь, тут все неигранное либо игранное по одному разу?
— Можно сказать, что почти все мои симфонии прозвучали по разу в разные годы. Я убежден: все они являются именно симфониями, в традиционном смысле, ибо я — убежденный, ортодоксальный традиционалист. Первые десять партитур относятся к годам учения в Московской консерватории и ее аспирантуре. Я тогда испытывал в равной мере сильное влияние симфонизма С. Прокофьева и Д. Шостаковича, отчасти А. Хачатуряна. Среди своих симфоний я выделил бы Восьмую — в духе венского классицизма. Пятую — известную московским слушателям как драматория «Владимир Ильич Ленин» на текст Маяковского, с хором, солистами, чтецом. Может быть, еще Десятую — очень напряженную, острую по музыкальному языку. Полной самостоятельности, мне кажется, я достиг к Одиннадцатой симфонии, «Совершилось», — это многочастное, огромной протяженности произведение с хоровым финалом. Оттуда уже прямой путь к «Поэме Победы». Есть у меня и малые симфонические формы — например, четыре увертюры.
— Существуют еще инструментальные концерты, и среди них Третий фортепианный — пленительное произведение, проникновенно сыгранное на пленуме в Симферополе вашим консерваторским товарищем пианистом Игорем Явряном...
— Да, три фортепианных концерта (из них два еще консерваторского периода), два скрипичных... И если уж мы занялись беглым каталогизированием моего творчества, то надо учесть также оратории и кантаты, несколько десятков хоров, вокально-инструментальные циклы, балет «Сильнее любви» (по Б. Лавреневу). Наконец, я постоянно сотрудничаю с Симферопольским театром драмы и музыкальной комедии, и в некоторых спектаклях, мною оформленных, так много музыкальных номеров, что это почти оперетты — например, «Бахчисарайский фонтан» по Пушкину...
Но не пора ли остановиться в этих перечислениях опусов, — главным образом мало кому известных?
— Нет, мы еще не вспомнили о камерных жанрах, где, по-моему, самое важное — фортепианная музыка: памятные с консерваторских лет «Пролог, Мысль и Эпилог», «Музыка № 1», «Музыка № 2», Девятнадцать фуг. В свое время о них очень много спорили в консерваторской среде. Теперь «Музична Украiна» издала эти пьесы, и надо надеяться, они будут звучать. Хотела бы в связи с этим спросить: ощущаете ли вы и сегодня цикл фуг как одну из своих «кульминаций»?
— Это очень важное для меня сочинение. Знаете ли, условно, для себя, я установил такую периодизацию: консерваторские годы поделил на периоды «обыкновенный» и «классицистский», аспирантура — период «модернизма», ну а после Одиннадцатой симфонии, 1965 года, как я уже говорил, полная творческая самостоятельность. В «Прологе, Мысли и Эпилоге» (1962) Ю. Холопов нашел несерийную додекафонию с импровизационной свободой структур. Мне представляется это совершенно точным определением, форма фуги помогла мне преодолеть внешний и внутренний хаос, она была для меня неким строгим каркасом. Тип тематизма в фугах — двенадцатитоновый, однако они бесспорно тональны, в них напряженная интонационность, и в результате полифонического развития возникает необычная гармония.
В дальнейшем я разработал для себя иную организующую мышление систему, далекую от додекафонии. Я бы назвал ее гиперфонией, или супертональностью. Она явственна в сочинениях последних пятнадцати лет и в «Поэме Победы» в частности. Мне трудно объяснить словесно ее смысл, гораздо легче показать за роялем. В принципе тут все очень просто: элементарные тональные, гармонические, ритмические построения накладываются друг на друга со смещением. Интервал смещения в каждом случае точно определен; в области звуковысотной часто избирается интервал ноны.
Я люблю астрономию, и когда бываю дома, в Крыму, нередко посещаю обсерваторию, где мне разрешают пользоваться телескопами. Так вот, я бы сравнил свои интервальные смещения с так называемым красным смещением в астрономии. Знаете, что это такое?
— Закон Хаббла, когда линии в спектрах галактики смещаются в сторону красного конца? Доказательство расширения галактик?
— Именно так. Я потому позволил себе это сравнение, что хотел бы выразить в музыке космическое звучание, которое может услышать каждый, созерцая горы, море, и более всего — звездное небо. Музыка — проводник звучащего мира. А материал, проблема его отбора, средства — все же второстепенны.
Свои смещения я рассчитываю, как уже сказал, точно, подчас даже с помощью математических способов. Но эти расчеты исходят из красоты звучания, не из предвзятого звукового ряда. Тематизм, композиция целого рождаются интуитивно, математика вступает в действие на стадии формования, расположения пластов, на стадии партитурной записи материала. Такие смещения, подчиненные выразительным задачам, позволяют, мне кажется, создать объемную звуковую перспективу, внести в звуковую материю особый строй и порядок. Вроде бы мои расчеты — вещь количественная, но в результате возникает новое, как я надеюсь, качество. Конечно, я вовсе не претендую на универсальность, этот метод работы — сугубо для меня самого, и я из него уже «вырастаю»...
Возвращаясь к фугам, о которых Вы спрашивали, могу сказать, что они в моем ощущении — кризис индивидуальной воли и одновременно — указание на выход из кризиса...
— Поскольку мы обратились к вашим консерваторским годам — как далеки уже эти годы! — скажите, что сейчас воспринимается вами как главное, полученное в консерватории?
— Воздействие двух очень строгих музыкантов было для меня особенно полезным. Я начал занятия композицией у Семена Семеновича Богатырева, ученика Римского-Корсакова. Он был требователен, даже по-своему жесток в педагогических принципах. По молодости лет я воспринимал эту требовательность как давление, но потом богатыревское воспитание стало определять мое музыкальное развитие. Ведь он, повторяю, ученик Римского-Корсакова, живое звено русской классической традиции. А я мыслю себя только в этой традиции, ни в какой другой!
Столь же строгий, я бы сказал, скупой стиль отношения к звуковой материи прививал мне Александр Васильевич Свешников. Он обратил на меня внимание с первых же курсов, часто брал на репетиции капеллы, заказывал мне хоровые произведения. Причем требовал полной прозрачности фактуры, абсолютной ясности голосоведения. Он объяснял мне: хор — столь мощный и богатый инструмент, что всякие излишества письма тут совершенно неуместны. И я всегда следовал его советам, работая для хора.
С благодарностью вспоминаю я Тихона Николаевича Хренникова и Дмитрия Борисовича Кабалевского, у которых занимался композицией на последних курсах и в аспирантуре. Хотя, конечно, им нелегко приходилось со мной: я вступил тогда в период «модернизма». И еще — Владимира Александровича Натансона, моего педагога по специальному фортепиано. Я ведь чуть было не избрал путь концертирующего пианиста! Это, наверное, к лучшему, что жизнь сложилась иначе, но живое музыкальное общение, совместное музицирование с Владимиром Александровичем доставляли мне огромное удовольствие.
— Я застала ту вашу консерваторскую пору в самом ее конце, «краем». Но убеждена — тогда вообще было необыкновенное время в консерватории. И дело, наверно, не только в том, что все мы были молоды. Целое созвездие очень талантливых людей определяло стиль консерваторской жизни. Всякие собрания, на которых звучала новая музыка, — официальные кафедральные вечера, полуофициальные студенческие НСО (научно-студенческое общество. — Прим. ред. ) , просто дружеские встречи — вызывали общий острейший интерес. Спорили до изнеможения, ссорились очень серьезно. Существовал круг близких композитору людей — коллег, теоретиков, исполнителей, и в этом кругу часто начинало жить новое произведение. Обсуждались всякого рода «глобальные» проблемы, но ничего важнее искусства не было для нас — словно бы от судьбы искусства, музыки зависела конечная судьба мира...
— Да, мы все стремились «вырваться в невероятное» и четко ощущали себя эпицентром новой культуры. Вероятно, мы несколько заблуждались и были склонны к подмене музыкой, музыкальными проблемами проблем самой действительности, реальной жизни. Но с другой стороны, это было и хорошо — мы не чувствовали никаких преград, никаких материальных (в смысле недуховных) затруднений. Когда я счел нужным освоить новый язык польской школы, например, я сидел над партитурами в библиотеке и дома чуть ли не целыми сутками, не отрываясь. Кое-что с помощью друзей пытался воспроизводить на фортепиано, и это кое-что игралось десятки раз подряд, так что дежурный по общежитию грозился вызвать милицию...
— Кажется, это называлось «пендеречить».
— Вот-вот. Но, кроме шуток, Пендерецкий действительно очень меня интересовал. Мне даже представляется, что в наших композиторских устремлениях было нечто общее.
— Точнее, по-моему, будет сказать, так: познакомившись в молодости с партитурами Пендерецкого, вы потом уже совершенно самостоятельно пришли к результатам, отчасти близким тем, к которым пришел Пендерецкий в своем развитии. Ваша оратория «Stabat Mater» — 1968 год, «Страсти по Луке» — тоже вторая половина шестидесятых годов. Сочинений Пендерецкого вы тогда не слышали, но между этими опусами в самом деле есть что-то родственное, может быть, тип тематизма драматургии — конечно, в самом общем плане.
— Не только польская школа, конечно, нас интересовала. Всякое знакомство с сочинениями крупных композиторов — от Шостаковича, Бартока до Булеза и Ноно — было эпохальным событием.
Нам было чему учиться и друг от друга. Ведь примерно в один период, с разницей в несколько курсов, в консерватории занимались Р. Щедрин, А. Шнитке, А. Виеру, О. Чаргейшвили, Ю. Буцко, Г. Банщиков... Я уверен, что общение с Альфредом Шнитке культивировало во мне серьезность отношения к музыке, к композиторскому труду.
Анатолия Виеру я ценил за спокойную серьезность, глубину его мышления. Отар Чаргейшвили был неиссякаемым кладезем знания, воплощенной духовностью. Музыку Юрия Буцко я всегда любил — и тогда, и сейчас...
Действительно, консерваторская жизнь тех лет была дружной, словно бы единой для всех нас. Споры, о которых вы вспоминали, не препятствовали этому. Каждое сочинение любого было делом общим. В наших отношениях присутствовал элемент азарта, соревнования: «Ты написал отличную сонату, а что же я-то — надо же и мне попробовать». Все, что писалось, тут же игралось нашими друзьями-исполнителями. Вот вы уже вспомнили Игоря Явряна — он был первым исполнителем моей фортепианной музыки.
Кроме того, мы вместе читали, многие из нас рисовали либо пробовали себя в литературе. Певец Анатолий Соколовский, помню, занимался живописью, и он же пел мои вокальные опусы. Трудное, но хорошее было время!
— Алемдар Сабитович, а можно теперь сакраментальный вопрос: как все-таки это вышло, что вы бросили Москву, в целом обещающе начинавшуюся «карьеру», и затворились надолго в родном Симферополе? Да так, что некоторое время от вас не было, что называется, ни слуху, ни духу? Как вам сейчас представляется: правильно ли это было?
— В конечном счете, думаю, правильно. Если бы я тогда не уехал, я не стал бы самим собой. Внешним толчком, наверное, был не совсем удачный экзамен по окончанию аспирантуры. Я представил на него Девятую симфонию и хоры на стихи африканских поэтов. Все это я изображал один за фортепиано. Было шумно и, кажется, малопонятно. Некий «модернизм», который и для меня тогда уже устарел. Основная же причина того, что я уехал, — конечно, внутренний кризис. Мне нужна была, если угодно, некая изоляция, возможность сосредоточиться, услышать в себе иное. «Финальные» консерваторские сочинения, и фуги тоже, были последним напряжением чистого творчества «из себя», последним криком юношеского индивидуализма. Я ощутил его банкротство и одновременно ощутил свое призвание и свой путь.
Я уехал домой, в Крым, ушел от бесполезного метания и почувствовал радость тишины. Постепенно начиналось новое — сперва небольшие сочинения, потом Одиннадцатая симфония...
— Я слышала эту симфонию, если не ошибаюсь, в 1967 году — в Симферополе, в Вашем исполнении. Отчетливо помню, сколь необычной и величественной показалась мне тогда эта музыка; до сих пор могу воспроизвести темы отдельных частей. Но что я — музыкантам с неизмеримо большим художественным и жизненным опытом она представилась открытием. Кто же в середине шестидесятых годов мог предположить, что «глава консерваторских модернистов» Караманов напишет симфонический цикл длительностью в два с половиной часа? А пламенный скрябинианский пафос Одиннадцатой? Это сейчас наша публика до некоторой степени привыкла к «длинной» музыке; младшее композиторское поколение приучает ее и к так называемому романтическому стилю. Двадцать лет назад Ваш замысел казался невероятным; сегодня, я думаю, Одиннадцатая симфония могла бы быть услышана. И вот что примечательно: такой, условно говоря, крутой поворот, такое прямое обращение к отечественной классической традиции было совершено в определенном композиторском кругу. Например: в то время как Вы сочиняли Одиннадцатую, Ваш товарищ Отар Чаргейшвили писал замечательную балетную музыку, прямо исходящую из стилистики Римского-Корсакова...
— Собственно, в отношении к русской классике никаких поворотов у меня не происходило. Всегда, всю жизнь музыка Чайковского, Скрябина, Рахманинова была для меня свята. Могу лишь повторить, мое творчество рождено только этой традицией.
— Совсем недавно вы закончили работу над музыкой пятнадцатисерийного документального телефильма «Стратегия Победы», а двадцать лет назад создали музыку к «Обыкновенному фашизму» Михаила Ромма. В ту пору вы приезжали в Москву, и была сделана одна любопытнейшая любительская запись на магнитофон: вы играете куски из сочинявшейся тогда Одиннадцатой симфонии и провозглашаете некий эстетический манифест — насчет единственно возможного продолжения русской классики и ее «завершения», помните?
— Все объясняется просто: то, что я делал, в середине шестидесятых годов, встречало определенное сопротивление, даже друзья меня плохо понимали, а я в ответ натягивал маску пророка, отстаивая, защищая свое новое. Было тут, конечно, и самолюбие молодости, теперь уже ушедшее...
Покончено ныне, кажется, и с «грандиозоманией». Но не с оркестром! Я слышу иную, более простую звукоорганизующую систему. Мне хочется написать оперу — к этой мысли я шел уже давно. Есть и сюжет, связующий разные эпохи русской истории. Здесь я попробую обратиться к новому типу драматургии, оперно-ораториальному по существу. А может быть, напишу еще рок-оперу — хочу доказать, что и в этом жанре могу остаться самим собой. Хочу, чтобы меня услышало много людей.
— Таким образом, мы все-таки перешли к планам. Но вот еще о чем мне хочется спросить вас. Некоторое время вы, по всей вероятности, имели мало возможностей знакомиться с «чужой» новой музыкой. Теперь у вас такая возможность есть. Как видится вам сегодняшняя «музыкальная ситуация»?
— Не буду называть имен: как всегда, есть талантливые, очень талантливые люди и прекрасные произведения. Беспокоит меня другое: мы пишем так много музыки, что не только слушателю, но и нам самим подчас невозможно как следует разобраться в ней. Мне кажется, должна быть разработана некая общая система оценки творчества — система не только эстетической, но и этической оценки. Наверное, я выражаюсь не совсем ясно. Попробую уточнить. Дело не в том, какими средствами, каким способом создано произведение, — тут каждый волен в выборе. Но любой автор должен выходить к публике прилично одетым, а не нагишом. Должны быть непереходимые запреты: например, на превышение допустимой силы звучности, на злоупотребление сильнодействующими приемами или приемами, находящимися вне сферы собственно искусства. И если композитор пишет симфонию, он обязан соблюдать определенные правила, иначе это будет не симфония, и не следует ее так мыслить и называть. Невыполнение элементарных художественно-этических норм препятствует пониманию замысла автора, мешает судить о смысле создаваемого им. Разумеется, запреты, о которых я говорю, должны быть внутренними запретами, делом композиторской совести каждого.
Когда мы все с уважением станем относиться к проблеме этики, задача систематизации новых музыкальных ценностей станет доступней.
И еще: я уверен, что этика современного русского композитора должна продолжать этику русской классики. Надеюсь, что я сам никогда, даже в наиболее «левых» сочинениях, не переступал так понимаемых этических границ. И убежден, что на подобной основе мы сможем достичь единства и хорошо поймем друг друга.
«Советская музыка», 1985 № 8
|